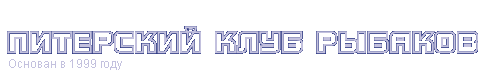Рыбацкие рассказы
Ельцы.
Фима
1.
«Ну вот этот точно последний» — уговаривал я себя, сидя в лодке с поплавочной удочкой в руках. Вечерело. Ельцы клевали бойко. Время поджимало. И хотя была суббота, и на воскресенье, а точнее, на воскресный, соблазнительный утренний клев, можно было бы остаться с ночевкой, я был не готов, как и мои домочадцы, ждущие моего приезда сегодня вечером. К тому же закончились бутерброды, теплых вещей с собой не было, в синей, уже второй на сегодня, пачке оставалось всего несколько сигарет. Зато почти целый термос крепкого горячего чая. Но ведь слово, которое ты дал своим домочадцам, должно быть крепче и горячей чая, не так ли?
Утром на железнодорожной станции я, несущийся со всех ног по платформе к ладожскому берегу, не посмотрел расписание движения электричек, но интуитивно знал, что последняя на Санкт-Петербург должна быть около двадцати двух часов; помнится, еще в прошлом году бежал к ее отправлению. «Сколько здесь идти?» — спрашивал я себя, держа на ходящей снасти верткого ельца, уверенно взявшего мормышку с желтой бусинкой и опарышем. От лодочной станции в Кошкино до Морозовки, наверно, минут двадцать пять быстрой ходьбы. И там, от поселка до двадцать первого километра, еще минут десять. Значит, с якоря надо сняться в восемь, глядишь, только к девяти часам дойдешь на веслах до пирса, выгребая против невского течения и восточного ветра. Ветер усиливался, гнал по серой воде белые барашки, сбивал их в стада, разгонял, то мелким бесом скакал по воде, то шквалисто рвал. В открытую Ладогу, свистящую за спиной сквозь рвано стоящие ряды тростника, из тихой, солнечной, мелководной и проявленной во всех подробностях тростниковой протоки выходить не хотелось. Да и елец брал, не переставая. Да и какой! Рыбешки все мерные, преимущественно стограммовые, мелкой особи не было. Или стайка из одних взрослых ельцов в мелководную протоку зашла, или эти взрослые ребята не подпускали мелочевку, оттесняли от поля, изрядно прикормленного перловкой, геркулесом и молотыми семечками, но рыбалка шла полным ходом, щекотала нервы упирающимися серыми плавничками и наполняла сердце матово-серебряной радостью. Выход из протоки, намеченный на двадцать часов, уже не состоялся. Протока, как приковала. С каждым порывом ветра высокие трехметровые стебли тростника, как по команде, все изгибались, шурша сухими на верхушках перьями. А здесь, внизу, в лодке, заведенной одним бортом в тростник, тишь да благодать. Лишь незатейливый ветерок, прорываясь откуда-то справа, из-за изгиба протоки, изредка морщинил гладь быстробегущей воды, но эти набеги еще больше оживляли рыбную ловлю, лишний раз подстегнув поплавок, и всколыхнув наживку, идущую над самым дном на глубине пятьдесят сантиметров. «Еще трех и все» — говорил я себе. Хлыстик удилища то и дело сгибался в дугу, поводок сеченьем ноль один музыкально струнил, как натянутая, тронутая пальцем струна; ельчик, длиной в два указательных пальца, крепко сидящий на крючке, делал отчаянные попытки ускользнуть под обломки черного прошлогоднего тростника, полулежащие у дна и отнявшие уже не первую мормышку. Вот прямо сейчас и сняться с якоря? Как? Треть дня на открытой, продуваемой со всех сторон, воде потрачена на высиживание сказочной глубинной плотвы, якобы идущей с фарватера плотными косяками вперемешку с двухкилограммовыми тупорылыми язями на твою секретную прикормку. Вторая треть дня убита на вываживание из буйной, не выспавшейся, черт знает что вообразившей себе головы десятикилограммовых ладожских щук и судаков, остервенело хватающих только твои волшебные колебалки и воблеры. И вот еще одна треть, вечерняя, последняя. Сто граммов приятной тяжести, сфокусировавшейся в ельца, сопротивляющегося на том конце тонкой снасти, тормозили время так, как если бы на него, на это ладожское время, навалилась бы какая-нибудь многотонная масса, например, годовая норма всех осадков, и оно, время, не бежало бы, не стояло бы, а как прошлогодний, наполненный водой, тростник, мертво лежало бы, не шелохнувшись. Задержало меня еще и то, что погода, вопреки прогнозу, обещавшему резкое похолодание и мокрый снег, была необыкновенно хороша. Несмотря на сильный восточный ветер, было довольно-таки тепло, во всяком случае, для северного, набирающего силы мая, оказавшегося в лодке на ладожской волне; и солнце, эта яркая латунная мормышка, то прячась за редкими облаками, бегущими в Неву, то поднимаясь в зенит, а ввечеру опускаясь ко дну полноводной ночи, играло слепящими бликами на воде и целый день обращало на себя внимание остуженных за зиму глаз.
Семь секунд молниеносного пробега поплавка по быстрине выбранного мной участка протоки, и видимая часть поплавка на ходу погружается в воду на одну треть. Это поклевка ельца, взрослого. Стайка проворных ельцов на подходе к мормышке явно опережает стада вездесущих, вечно голодных колюшек, каждая из которых, прорываясь к наживке, выставляет три смертоносных шипа. На пять-шесть выловленных ельцов – одна холостая, но даже очень уверенная поклевка колюшки. Ведь ее не засечь, хватает опарыша, как взрослая, а взять не может. А выдает свое присутствие, нет да вцепившись в опарыша, и держась на нем, как гимнаст, выделывающий фигуры на перекладине, пока ты поднимаешь снасть, а другой рукой пытаешься поймать легкую, не утяжеленную хорошим рыбьим весом, леску. Тут то и замечаешь это серебряное, сверкнувшее на солнце чудо величиной с мизинец, которое, долго не раздумывая, бросает ко всем чертям этого аппетитного опарыша перед самой лодкой и плюхается обратно в воду. И плотва клюет по-другому. Плотва сначала пробует, осторожно так, как бы нехотя ведет поплавок в сторону, а потом уже, видимо, вкусив, ощутимо берет. А елец торопится, и пробует и берет одновременно; наверно, некогда ему, время его до заката, не то что у плотвы, целая пучина времени у нее за красными глазами, которые повсеместно заполонят подводную ночь. Вот и мне некогда. Давай, ельчик, дорогой. Вечер уже полным ходом, время неумолимо бежит. Полное, красное закатное солнце уже над самыми башнями крепости Орешек, вот-вот завалится за них, но задержалось, как предупреждение, как знак: пора, пора сниматься. Взрослый ельчик на ощупь приятен, его мягкое тепло передается в руку; надо крепко держать это продолговатое, упругое, все еще норовящее ускользнуть в воду тельце. Стограммовый елец, упрямо водящий легкую спортивную снасть, по моим рыбацким ощущениям, как двухсотграммовая плотва, или как восьмисотграммовый подлещик, мертво ставший у дна на своем лещовом поводке, или как двухкилограммовая щука, сидящая на тройнике, и вытягивающая мононить сеченьем ноль два. Откуда такая градация ощущений, живущих в правой руке, держащей удочку? Не знаю. Наверно, она оттого, что крайне редко случается поймать особь ельца, потянувшую на двести граммов. Вот и сейчас жду его, крупного. Достаточно одного, и сверну рыбалку. Тут же усмехаюсь над этой крамольной мыслью. Где один, там и второй, а это еще полчаса украденного у неминуемых сборов времени. «Все, говорю себе, это самый последний», и опять, вопреки здравому железному смыслу, монотонно стучащему за далекими лиственными деревьями скучными колесами электропоезда, уносящего, возможно, меня, но только меня не здешнего, а другого, в Санкт-Петербург, я опять забрасываю в воду длиннотелый спортивный поплавок, чтобы пристально следить за движением его красной завораживающей антенны, и с екающим на каждой холостой поклевке сердцем внимаю тому, как он тоже, казалось бы, в такт моему сердцу, ждет поклевку крупной, упертой особи — трехсотграммового ельца.
2.
Муравей, суетящийся на ярко-зеленом, еще только вчера вылезшем из воды листе осоки, провожает взглядом убегающий по течению поплавок. Муравей попал. Как же он оказался в таком положении? Ставлю себя на место муравья. Ребристая, довольно таки короткая протока на глазах растет до размеров шпалистого железнодорожного пути, выходящего через семьдесят километров в разлив города. Длиннотелый поплавок, наклонно скользящий по быстрине, превращается в уносящуюся по путям, показавшую свой хвост электричку. У муравья за плечами, оказывается, есть увесистый рюкзак, с химзащитой и бахилами, со всевозможными коробочками, содержащими поплавки, мормышки, блесны и прочий рыбацкий скарб, а также матерчатая авоська с рыбным уловом, с ельцами, которыми большие мыслящие муравьи, оказывается, питаются.
Развязка оказалась более чем прозаичной. Что и следовало ожидать. Да еще этот убогий двадцатичетырехчасовой магазин, как из-под земли выросший у дороги, бегущей к станции, с нерасторопной продавщицей, полупустыми стеллажами, где из-за отсутствия альтернатив в выборе продуктов, а также из-за незначительного, ограниченного пятьюдесятью рублями, количества денег, лежащих в моем бумажнике, выбор мог пасть только на малек водки и сладкую полоску с орехами. С досадой смотря в хвост электропоезду, удаляющемуся от безлюдной железнодорожной платформы, щиплю свою руку, чтобы удостовериться, я ли это или не я оказался в роли муравья, сидящего на платформе молодого листа осоки, и оторванного от всего муравьиного мира. Рука взбрыкнула. Больно. Это я. Еще не веря в случившееся, бегу к доске с расписанием. 21.49, последняя. На часах: 21.53. В голове одни ельцы, эти бодренькие, сплошь стограммовые мысли, уверенно хватающие наживку происшествия: «что делать, что делать, что делать...» Итак, в голове снующие ельцы, за плечами рюкзак с химзащитой, ореховой полоской и мальком водки, яйцом, сваренным вкрутую, ах, да, с термосом, сохранившим тепло чая; две руки, две ноги, сердце, ноющее о домочадцах, еще ничего не знающих, и масса свободного времени, которое даже не понятно как скоротать в ожидании первой электрички из-за его избытка.
А что нам скажет стрелочник или какой-нибудь там станционный смотритель? «Стрелочник, а, стрелочник?!» — колочу в дощатую дверь путевой будки. Из-за приоткрытой двери показалось пожилое лицо то ли стрелочницы, то ли смотрительницы в клетчатом, накинутом на голову, платке. «Чего буянишь? Пьяный, что ли?». «Это была последняя?» — безнадежно спрашиваю ее. «Последняя». «А автобус в город?». «В девять тридцать был». «А телефон в Вашей будке есть?». «Шел бы ты мимо». «И как же мне добраться?». «Не знаю, милый. Нечего водку пить» — дверь сердито захлопнулась. Попроситься на ночлег? Еще успею. Думай, Фима, думай. А что тут думать, ехать надо. Вот тебе трасса в город. Вот тебе правая рука. Вставай, тормози. Двадцать рублей в бумажнике? Но ведь есть бутылка водки, еще не початая. Чем не валюта? И свежая рыбка при тебе, как никак, а килограмма четыре будет, это еще шестьдесят рублей. Эх, ельцов отдавать жалко. Не доводилось их, таких напористых, ловить до этого. А ельцы, живчики этакие, шурша, юрк в голову: «тебя ждут, тебя ждут, тебя ждут...».
«Эй, парень, ты в город?». Рыжая женщина в новеньких синих джинсах и в бардовой кожаной куртке по пояс, с противоположной стороны трассы, утопающей в шуме и пыли, поднятой интенсивным автомобильным движением, пытается что-то мне сказать. Рассеянное зрение перевожу в слух. «Рыбачек, так ты в город или нет?» — женщина уже перешла трассу и подошла ко мне на расстояние, которое в другой ситуации расположило бы к общению. «В город» — угрюмо отвечаю. «Возьми мою подругу. Дешевле будет» — рыжая улыбается, очевидно, что хочет понравиться. «А подруга-то где?» — гляжу, подруга, с увесистыми хозяйственными сумками, семенящими шажками быстро спускается с железнодорожной платформы и, чертыхаясь, направляется в нашу сторону. Обе навеселе. Наверно, что-нибудь праздновали. Эта, рыжая, ничего такая. Лет сорок будет. Молодится. Подруга старше. И рыжую, и ее подругу, с искусственными белыми завитушками на голове, ситуация, безнадежная для меня, не пугает, еще больше веселит. Рыжая бестия все время подмигивает мне. «Люд, а, Люд, оставайся у меня, на первой поедешь» — а сама смотрит на меня в упор, кривит и без того кривую, съехавшую набок, но чем-то обворожительную улыбку. Смотрю на нее и понимаю, это глаза. Это черные глаза так улыбаются, раскосые. А кудри рыжие, естественные. А нос с цезаревой горбинкой. Царственная горбинка подчеркивает восточную прелесть глаз. Армянка? Иудейка? Не понять. Морозовская. Да все мы тут одним миром мазаны. Миром последних электричек, приходящихся на двадцать второй час субботнего, продолжительного летнего дня, и масштабных просторов родины, где, повернись ситуация вот таким образом, ты имеешь все шансы затеряться в лесных просторах, сгинуть в непроходимых топях, торфяниках, так и не добравшись до города. Этот мир, в данном случае сузившийся до платформ и электричек железнодорожного мира, переведя стрелки на его рельсы, этот мир безразличен к своим пассажирам, как сволочь, которую надо волочь и волочь на терновом аркане к торжеству добродетели. Рыжая хочет понять, о чем я думаю; перекидываясь незначительными словами с подругой, ждет от меня ответа. Взгляд властный. Мягкий и властный. Стелет. «Ты смотри, говорит мне, за подругу мою отвечаешь». «Люд, а может останешься?» — и обе в смех. Смеются так, точно икру мечут, самозабвенно. «Нет» — мотает головой Людмила. «На смену мне, обязательно надо в город». После этих слов на душе как-то легче стало, не так угрюмо. Хорошее все-таки слово «обязательно», бодрит. Рыжая чертовка стоит на обочине первой, отставив правую ногу чуть в сторону, для уверенности. Левая рука вбок, правая на вытяжку. Активно машет рукой; всеми пальцами вытянутой правой руки, чередуя их по системе, понятной только ей одной, что-то там выписывает; большим пальцем время от времени чиркает по горлу, показывая проезжающим мимо нас водителям, мол, вот так надо, позарез. Стою сзади, не суечусь, думаю, с такой не пропадешь, точно уедем. Обмериваю похотливым взглядом ее сочную бабью задницу в облегающих синих джинсах. Хороша. Баба в соку. «Кать, вон Мишка, собирался еще сегодня в город ехать, он сейчас вернется, до магазина рванул» — гляжу, смотрительница, вылезшая из своей будки, стоит, опершись локтями на перила крылечка, и, луща семечки, с интересом разглядывает нашу компанию, сбившуюся на время. «Ну и прекрасно» — как отрезала рыжая Катя. «Значит, Людку отправим». «Что же это, говорю, одну Людку собираетесь отправлять, ведь мне тоже в город во как надо!». Рыжая Катерина вполголоса, бархатисто так, пропела мне: «Что же ты так волнуешься, рыбачек?», и ее сигарета, зажатая на отлете руки между средним и указательным пальцами, нарисовала в томном, темнеющем воздухе дымящийся знак вопроса, который тут же перевернулся в моем сознании и, удвоенный сознанием, превратился в черные, расширенные, обезумевшие от ночных поцелуев глаза и обнаженную женскую грудь.
«Говорил я вам, красавицы, опоздаем, надо было бегом. Ах, простите, возраст претит. Куда нам, с такими формами» — некий лысоватый остряк, лет пятидесяти, в темно-синем спортивном костюме, с грудью колесом, выкаченной из расстегнутой до пупка куртки, с медным крестом на золотой цепочке, отчасти зарытым в густых волосах, и с деревенской облупившейся кожаной сумочкой, стеснительно висящей подмышкой, пошатываясь, подошел к нашей компании со стороны железнодорожной платформы и, отпустив дежурную шутку насчет отлова машин в таких вот облегающих джинсах, попытался любяще взять Катерину сзади за утонченную, подчеркивающую округлые бедра талию. Катерина легким шагом в сторону увернулась от предложенных ей объятий и, не обращая ни малейшего внимания на хорошо поддавшего, вьющегося спортивного субъекта, продолжала ловить попутки. Катерина полуобернулась ко мне; не опуская работающей на нас руки, бросила пытливый взгляд в мою сторону, мол, ты видишь, какая я, недоступная. В замедленном полуобороте рыжей Кати правый борт ее бардовой кожаной куртки оттопырился, показав мне нагрудный кармашек кружевной кофты. А формы и впрямь. Тут ельцы не то что в моей голове, а чуть ниже пояса зашевелились: «тебя ждут, тебя ждут, тебя ждут...». Лысоватый остряк, сделав повторную и неудачную попытку приблизиться к рыжей пассии, переключился на Людмилу. Прыскающий женский смех и неприлично громкий, пьяный мужской гогот, оглашая сумрачные окрестности поселка имени Морозова, доносились и до смотрительницы. Смотрительница вытягивала шею; по всей видимости, жадно напрягала слух, пытаясь выудить что-либо, для нее интересное, из сплошного потока слов и хохота. В ход шли не только дежурные шутки, но и анекдоты, а также короткие, требующие серьезного выражения лиц, сентиментальные, якобы правдивые истории из жизни то ли спортсмена, то ли матроса, я так и не понял. «Так тебе, матрос, во Всеволожск? Что же ты с нами стоишь? Иди на другую сторону» — Людмила стучала игривой ручкой по пробковой груди матроса, а тот, чувствуя на своей щетинистой груди тепло, идущее от мягкой женской ладони, так и подныривал к Людмиле, приседая, и виясь селезнем вокруг нее. Катерина, снисходительно улыбаясь, иногда метала злые молнии на отвратительную сцену ухаживаний и, уже больше не обращая ко мне своих черных угарных глаз, сосредоточенно, иногда топая рассерженным каблучком, ловила попутки. Похоже, ей нестерпимо надоел весь этот маскарад: пьяный матрос, черствый рыбак, стареющая белокурая Мальвина, и хотелось побыстрей выскочить из него. Микроавтобус, идущий порожняком, притормозил возле нас. «Возьми троих до города» – взмолилась рассерженная Катерина. «Я налево, в парк» – водитель ни в какую не соглашался, но ослепительная рыжая улыбка и десяток Катиных слов, неразборчивых для нашей компании и непутевой смотрительницы, горячо нашептанных водителю в самое ухо, растопили его водительское, путеводное сердце. «Садитесь, до Мурманки подкинет, а там как бог даст» — Катерина задвинула снаружи тугую дверцу микроавтобуса. Прощальная рыжая улыбка, обращенная ко мне через боковое стекло микроавтобуса, навеяла грусть, сквозящую во многих чеховских рассказах, а тут выуженную вдруг из их темного, образовавшегося в моей голове омута, и стала моей третьей попутчицей на протяжении получасового пути до Мурманской трассы.
3.
Бог дал маршрутное такси. Почти сразу. И до этого Бог дал, но взамен ничего не взял, ни двадцать рублей, ни водку, ни вечерних ельцов, все еще вздрагивающих в матерчатой авоське. Водитель остановленного Катериной микроавтобуса отказался от всех даров, предложенных ему нашей компанией на Мурманке, быстро захлопнул дверцу и, развернув машину на сто восемьдесят градусов, как ужаленный, помчал обратно в Морозовку навстречу чему угодно, но только не своей, как мне хотелось думать, судьбе.
Маршрутное такси было опознано издалека по желтой квадратной табличке с номером маршрута, прижатой к лобовому стеклу. Мы, все трое, завидев мчащийся микроавтобус, стали наперебой махать руками, подпрыгивать, даже кричать, и старания наши были замечены. Такси оказалось пустым, за исключение того, что какая-то любовная парочка, парень и девчонка, одурманенные любовью, оба в темных солнцезащитных очках, сплетясь как тени, полулежали на роскошном заднем сиденье и нежно облизывали друг друга, так и не сняв очки. Лысоватый остряк сразу же подсел к водителю на сиденье, расположенное за водительской спиной. Как из рога изобилия, посыпались дежурные дорожные шутки остряка на всклокоченный, еще не проеденный плешью, водительский затылок. Такса проезда до метро Ломоносовская составила десять рублей. Взяв у нас деньги, остряк передал их водителю. «Водку будете?» – наклонился я к Людмиле, откинувшей голову на кожаную подушку сиденья, а затем достал из рюкзака малек, термос, кружку и полиэтиленовый короб, содержащий ореховую полоску, вареное яйцо и остаток вкусного, но предусмотрительно не доеденного бутерброда, слепленного из хлеба и ветчины, верная спайка которых запечатлела оттиск с моего прикуса. От водки Людмила отказалась, но кружку с налитым в нее чаем взяла и жадно выпила. Цель добраться до города, еще час назад насущно стоявшая перед нами в Морозовке, была почти достигнута, мы мчались в город по широкой, накатанной Мурманке. «И куда вас, мужиков, все тянет? Вечно вы с рюкзаками, удочками, бурами, лодками, на попутках, в море, на льдинах. Мой уже отрыбачил, отплавал. Вот и живу одна. Иногда приезжаю к Катерине. Она сестра покойному» — Людмила неожиданно замкнулась. Передвинувшись к окну, она подняла глаза и зачем-то посмотрела туда, в темную высь, где, не мигая проезжающим в ночи людям, и никому не отпуская оптовое тепло, тусклые, высокие звезды мертво стояли на месте, и там ничего больше не происходило, пока наш микроавтобус, этот дрейфующий островок тепла и добродетели, двигался навстречу Санкт-Петербургу, всеми огнями медленно встававшему из-за горбатого моста, перекинутого через Неву. «Вот куда он едет, этот отставной матрос? Ведь ему во Всеволожск надо было» – смягчив тон, Людмила кивнула в сторону лысоватого, самозабвенно щебечущего остряка. «Окажется в Питере. На ночь глядя. И куда ему идти?» — женщина неожиданно смутилась от собственной потаенной мысли, сказанной вслух, и резко отвернулась в сторону окна. Остряк без устали отпускал шутки прямо в водительский затылок. Пыхтя в темноте, любовная парочка коротала дорогу в любовных утехах, смотря на мир, и без того темный, через солнцезащитные очки. Людмила, закрыв красные веки, набухшие от слез и избытка спиртного, выпитого давеча за упокой рыбацкой души, не подавала признаков жизни, как внезапно уснувший ребенок. А я жадно ел, запуская пальцы в волшебный короб и извлекая из него царскую еду. Иногда я всматривался в темноту, бегущую вместе с верстовыми столбами за боковым стеклом микроавтобуса обратно ходу нашего движения. Подливая водку в кружку с горячим чаем, я молча глушил этот рыбацкий глинтвейн, растягивал его до въезда в город, ни о чем не думая и ни на что не надеясь. А тот человек, что сидел в темноте бокового автобусного стекла с кружкой, поднесенной к губам, пил за здравие своих попутчиков, за семейное счастье этой красивой, не знающей горя женщины, за мудрость отставного матроса, отпускающего острые корабельные шутки; за вечную молодость чувственной рыжей Катерины, живущей в поселке имени Морозова. Этот человек поднимал кружку за здравие водителя, везущего его домой, за терпение домочадцев, ждущих своих беглецов, за удачу всех блудных сынов, пробирающихся сейчас через леса к промышленному млеку родного города, всех ладожских рыбаков, вышедших на промысловый лов ночной плотвы, и, конечно, за красоту взрослых трехсотграммовых ельцов, мирно почивавших в это время, как прозрачные серебряные тени, у корней тростника той самой ладожской протоки, перетекающей в лунную дорожку.
13 мая 2001 года
Александр Ефимов